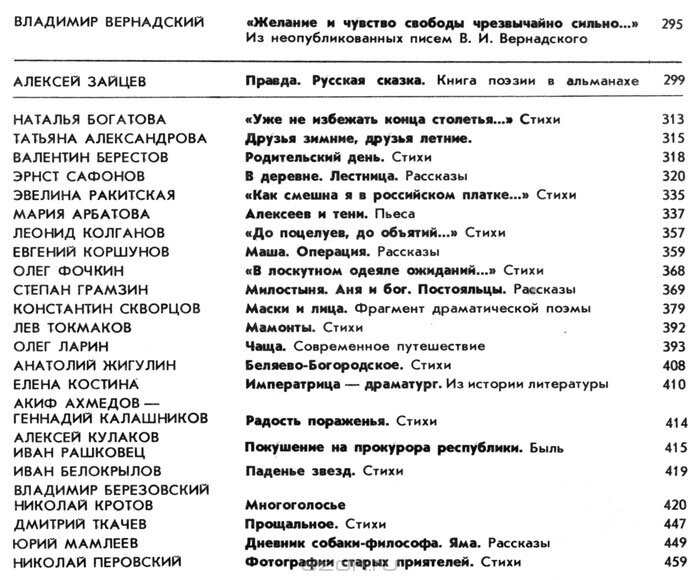Генерал от инфантерии
Автор: Станислав Сергеевич Зотов
Генерал от инфантерии в отставке Сергей Сергеевич Бутурлин жил перед революцией в собственном доме в самом центре Москвы на Знаменке, напротив строений Генерального штаба, где уже в наше время было возведено неуклюжее массивное здание Министерства обороны. Особнячок его наследственный выходил фасадом к бульварам, а на Знаменку смотрел своими аккуратными оконцами небольшой чистенький флигель, что в прежние времена отводился гостям хозяина, а после революции, уж так получилось, стал прибежищем старого генерала, его жены и молоденькой младшей дочери Машеньки, что осталась жить с престарелыми своими родителями.
Всех старших детей Сергея Сергеевича бури мировой войны и революции разбросали в разные стороны света, но сам старый генерал не хотел покидать родную ему уютную Москву, да и жена его, урожденная княжна Туркестанова, была тяжело больна, не вставала с постели, а потому в доме за ней ухаживала женщина, взятая из наследственного имения Бутурлиных – подмосковного сельца Ясенева. В былые годы, когда старый Бутурлин работал в Генеральном штабе русской армии, он часто со всем семейством выезжал в это свое имение и там его и его родных хорошо знали и уважали местные крестьяне. И дело было не только в том, что хозяева имения никогда не отказывали своим крестьянам в помощи, бывало и деньгами ссужали их, помогали покупать инвентарь и скотину. Старая хозяйка следила, чтобы в каждом крестьянском дворе обязательно была корова, а если кормилицы не было, то такой бедной семье покупали телушку за господский счет. И не только за то почитали своих господ местные крестьяне, что после начала германской войны ходила молоденькая Мария Сергеевна по деревенским дворам и коли узнавала, что есть павшие в этой семье, то оставляла она в таком доме полновесные золотые монеты… Нет, разве в деньгах дело? Только ли деньгами добро покупается… А вот если уважают тебя – деревенщину незнатную, разговаривают с тобой просто, на равных, без высокомерия барского, если видят в тебе человека, даже пускай ты последний бедняк разнесчастный, то разве это не оценят люди, разве не отблагодарят потом таким же добрым отношением и уважительным словом.
Жили Бутурлины и до революции довольно скромно. Прислуги в их московском доме почти никакой не было, дети с малолетства приучались сами ухаживать за собой. Не было у генерала даже повара своего или кухарки. Обед им приносили из близкого к их дому известного арбатского ресторана «Прага». Но настали новые времена, закрылись на Москве рестораны, выселили старых хозяев из крепких особняков, а Сергею Сергеевичу и семейству его еще повезло, им оставили флигель их дома на Знаменке. Сыновья Бутурлина оказались в 1918 году кто где: кто подался за границу, а кто и на Дон в белые армии. Генералу многие знакомые его советовали уехать, хотя бы ради младшей дочери, но он и слышать об этом не хотел. Он желал умереть на родной земле, которой всю жизнь служил, за которую воевал на Кавказе, которая наградила его многими орденами и регалиями. А в последнее время не расставался Сергей Сергеевич с парадным своим мундиром, увешанным орденами, мундиром с золотыми эполетами и вензелями. Смешно, наверно, было видеть суетливым московским прохожим в тревожном восемнадцатом году, сухонького старичка в помпезном мундире при всех орденах, неторопливо гуляющего по Никитскому бульвару и спокойно посматривающего на странную новую жизнь.
Около белой громады храма Христа Спасителя на Волхонке толпился оживленный московский люд. Здесь группа революционных поэтов проводила митинг-концерт, имея в виду поднять задор и боевой настрой масс, и направить этот задор и настрой на реакционных попов и прочих старорежимников. Только что выступил высокий, как жердь, субъект, одетый, почему-то, во фрак, но в тельняшке под фраком и в цилиндре с торчащим из него пером. Прежде чем что-нибудь прочесть, он поднял фалды своего фрака, изогнулся непристойно задом в сторону храма и изобразил нечто, что должно было означать полное посрамление христианской святыни. В толпе кто засмеялся, а кто и заохал недовольно. Не обращая внимание на эти охи верзила начал гнусавым голоском читать свой бессмертный шедевр под названием «Апофеоз грядущего»:
Богу – богово, а народу что?
На не нужно убогого,
Подавай вещество!…
В конце концов ему удалось развеселить невзыскательный люд, а молодые солдаты в обмотках даже похлопали клоуну, лузгая между тем бесконечные семечки.
Но вот на самодельный помост поднялся невысокий, щупленький паренек без шапки, лохматый, блондинистый, похожий на шпаненка из замоскворечья, но со странными лихорадочно блестящими глазами.
Не устрашуся гибели! –
Неожиданно сильным, раскатистым голосом начал читать он свои стихи…
Не копий, ни стрел дождей!
Так говорит по библии
Пророк Есенин Сергей…
Толпа молча и сосредоточено слушала громоносные строки. Вся революция изливалась в них. Революция с безумными вселенскими мечтами о необыкновенном будущем, где люди станут как боги, а боги будут посрамлены и унижены. Стихотворение перемежалось неистовыми выкриками о том, что поэт не хочет больше признавать Христа и даже выплевывает изо рта Его тело, то есть божественное причастие. Наконец один из слушавших не выдержал этого кощунства и резко застучал своей палкой по доскам помоста. Это был старый смешной генерал в нелепом золоченом мундире с розетками орденов на груди.
- Молодой человек! – Кричал он надтреснутым стариковским фальцетом, - молодой человек! Прекратите! Вы же не понимаете, что вы делаете, что вы произносите здесь на святом месте. Вы же губите себя!
- А это что за сапог трухлявый объявился? – Грубо, со смешком, к старику обратился один из слушавших. Был он в кепке, в курточке рабочей, в штанах клетчатых и желтых ботинках. За ним стояли еще двое таких же типов с блатными улыбочками, с косыми взглядами. Они потихоньку оттирали старика в мундире от толпы, а их главный уже мял в ладони свинцовый кастет. Старый генерал не пытался сопротивляться, он только вздергивал свою седенькую голову в фуражке и жевал взволнованно сухими белыми губами.
- Купырь, отстань от старика! – Молодой поэт соскочил с помоста и ринулся к шпане. – Отстань, говорю! Ты меня знаешь, ферт арбатский, у меня не залежит!
- Да ты че, Серега, - нагло, но в то же время смущенно оправдывался клетчатый, - да на кой мне золотопогонник этот недорезанный…
- Во, во, проваливай! – Тот, кого назвали Сергеем подхватил старика под локоток и повел его быстрее на бульвар, подальше от толпы.
- Благодарю вас, юноша, - сказал его спутник, когда они были уже далеко, - вы, вероятно, спасли мне жизнь, но все же я должен сказать вам, что вы делаете очень плохо, когда ругаете Бога. Тем более это плохо, что стихи ваши сильны, незаурядны, в вас виден большой талант, а куда вы направляете его… - он задохнулся, - вы не понимаете, что любой талант от Бога и даже этот ваш протест, эта ваша ниспровергательная энергия, она тоже от Бога…
Он хотел продолжать этот разговор, но силы оставили его и молодой его спутник вынужден был присесть с ним на скамейку.
- Не ругайте меня, - поэт улыбнулся старику мягко и обезоруживающе, - я верю в Бога, я чувствую что он смотрит на меня и поддерживает меня. А если я и говорю Богу резкости… - тут он замялся, - так это значит, что так нужно…
Поэт что-то недоговаривал. Он сидел на скамейке низко согнувшись, обхватив свою лохматую голову ладонями и смотрел куда-то в пространство со странной блуждающей улыбкой.
- Отец! – К ним подбежала торопливо, но и стараясь сохранять достоинство молодая симпатичная девушка в белой кофточке, аккуратной юбке без всяких украшений, но и не без щегольства, еле заметного, но необходимого ей. – Я же просила тебя не уходить в гулянье дальше бульвара… Отец, ты так напугал меня…
Она с опаской взглянула на молодого человека, но тот только молча встал, поклонился и заглянул в ее травянистые зеленые глаза своим голубым лучистым взглядом. Потом взял ее ладонь своей аккуратной маленькой, но сильной рукой и поцеловал ее.
Девушка не вырывала ладони из его руки, а держала ее спокойно, с достоинством.
- Меня зовут Сергей,- сказал поэт, а вас…
- Мария… - девушка решительно откинула голову, - я работаю в реввоенсовете республики… машинисткой, - чуть замешкавшись закончила она. – А это мой отец… он не совсем в себе… не обращайте внимания на его мундир… просто отец очень стар, он не понимает того, что сейчас происходит… не осуждайте его… - закончила она еле слышно.
- Ваш отец – очень умный человек, - тихо ответил ей поэт, все так же продолжая погружаться в ее взгляд, - берегите его… и себя, - добавил он почти шепотом. Тут какая-то тень пробежала по его лицу, он резко повернулся и не прощаясь ушел вниз по бульвару по направлению к набережной.
Девушка и старый генерал смотрели ему вслед, смотрели на то, как загорается золотым светом первая осенняя листва, опавшая на бульвар и не видели того, что за ними наблюдают две какие-то странные, серо одетые личности с суетливыми быстрыми движениями, которые давеча проследовали за поэтом и генералом из толпы на концерте и наблюдали внимательно за ними с дальней скамейки. Потом эти личности проводили осторожно и незаметно старика и его дочь до самого их флигеля на Знаменке, а после исчезли, словно растворились в сыром предосеннем воздухе.
На следующее утро, очень рано, за стариком пришли.
Все было совершенно обыденно, мирно. Со стороны бульвара на Знаменку заехал небольшой крытый грузовичок из кузова которого выпрыгнули солдаты, а из кабины вышел матрос в бушлате, с портупеей тяжелого маузера, в комиссарской фуражке с кожаным верхом. В узкую дверь флигеля постучали негромко, но внушительно и когда Маша, набросив шаль, вышла открывать и спросила кто, ей ответили ровно и весомо: - Чрезвычайная комиссия… Откройте, барышня.
Негнущимися пальцами Маша откинула засов и впустила матроса и солдат.
Пришедшие вели себя совершенно спокойно, они, вероятно, знали, кого пришли арестовывать и не торопясь проходить во внутренние комнаты флигеля, расположившись в прихожей, ожидая распоряжений своего командира. Командир же тоже не торопился, а с улыбкой рассматривал молоденькую хозяйку.
- Прежде всего дозвольте представиться, барышня, - все так же с улыбкой объявил он, - уполномоченный московской чрезвычайной комиссии, а в прошлом артиллерийский комендор броненосца «Генералиссимус Суворов» Андрей Егорычев.
- Мария Сергеевна Бутурлина, - ровно ответила хозяйка и подала пришедшему руку, но подала ее так, что иной бы человек, более галантный, непременно поцеловал бы ее, а матрос, хотя и прекрасно понял этот жест, лишь осторожно взял хрупкие пальчики девушки и слегка сжал их в своей твердой ладони.
- Вы пришли с обыском…- неуверенно спросила Маша.
С пришедшего сразу слетела улыбка, он нахмурился, строго взглянул на девушку.
- К сожалению, барышня, обыск будет, обязан его провести, но готовьтесь к худшему, ваш отец…
- Отец… - Маша закрыла лицо руками, - но он совсем старый, он плохо ходит и видит… пожалейте его и меня! – Добавила она горячо, взглянув умоляюще в лицо комиссара.
- Эх, барышня… - матрос хмурился все сильней, - стар-то он стар, а что же он устраивает демонстрации против советской власти. Мы имеем точные сведения, что вчера он пытался сорвать боевой концерт группы наших товарищей – революционных поэтов возле оплота царизма и мракобесия храма Христа Спасителя. А потом, чего это ваш батюшка разгуливает каждый день по бульварам при всех своих старорежимных орденах, в золотых эполетах и людей пугает. Он что не помнит семнадцатый год… Тогда мы на Балтике за золотые эполеты офицерье-то за борт, на корм рыбам спускали.
Чекист пытался сердиться и казаться строгим, но это у него не получалось. Уж больно домашняя была вокруг обстановка, мирная. С кем тут было воевать? – С молоденькой испуганной девчонкой, со стариками, которые сами уже одной ногой в могиле. Оставив конвой в прихожей он прошел, топоча своими большими флотскими ботинками по комнатам флигеля и остановился в маленькой гостиной перед большим красочным портретом в дорогой золоченой овальной раме. На портрете была изображена молодая прекрасная женщина в бальном платье с чуть прикрытой грудью и таким глубоким томным взором удивительных серо-изумрудных глаз, что взор этот смутил матроса и он, обернувшись к Маше, спросил ее нарочито грубовато:
- А это что за мадам такая…
Спросил и осекся. Ему сразу бросилось в глаза разительное сходство между женщиной на портрете и скромной девушкой перед ним. И хотя Маша была одета очень просто, даже не одета, а скорее раздета, потому что на ней под большой пуховой шалью была только длинная ночная рубашка и домашние туфли, но чуть-чуть открытая грудь ее, свежая как роза, мягкие ее щеки, а главное – глаза, удивительные травянистые глаза – все, все было с портрета неизвестной дамы.
- Это моя бабушка, мать моего отца, княжна Гагарина, - просто ответила девушка и не смущаясь взглянула в иссиня-черные смурные глаза матроса. И тогда ему стало немного стыдно в глубине его заскорузлой души, и это чувство стыда было таким удивительно новым для этого грубого человека, что он смутился и не нашел что сказать своей собеседнице.
На противоположной стене гостиной висел небольшой портрет молодого бравого офицера в кавказской одежде, в бешмете и папахе. Под портретом висели скрещенные кривые восточные сабли и стоял турецкий диван с аккуратными подушками, расшитыми по-персидски цветочной вязью.
- А это мой отец в молодости, на Кавказе, - пояснила Маша, - он сражался с горцами, был ранен и награжден солдатским Георгиевским крестом и золотым оружием.
- Солдатским Егорием, - оживился комиссар, - это, значит, сам под огнем с солдатами был, в капониры не прятался. Геройский старик! – Он оживленно хотел еще что-то добавить, но смутился. Нелепо как-то все выходило. Он чувствовал хорошо себя здесь в доме благородных, но простых людей, а ведь ему нужно было трясти и выворачивать этот дом наизнанку, хватать старого генерала и волочить его в вонючие подвалы Лубянки, откуда он уж живым не выйдет. Да… нехорошо.
Может он бы и принялся еще за свое неправедное дело, но в этот момент в гостиную из крошечной спальни еле-еле переставляя ноги вышел седой как лунь старик в полном мундире генерала от инфантерии, то есть пехотного генерала русской армии с георгиевским крестом на груди и другими заметными орденами русской славы. Стоячий воротник мундира подпирал сухие морщинистые щеки старого вояки, а выцветшие глаза его смотрели рассеяно и чуть по-детски.
- Маша, - сказал он негромко, старчески, почти шепотом, - простимся, родная.
Маша зарыдала и упала на грудь отца.
- Ничего, Маша, ничего, - говорил старик, поглаживая ее по пушистым светлым волосам. – Крепись, крепись. Ты же Бутурлина! Бутурлины со времен Александра Невского были солдаты. России служили. Из рода в род, из поколения в поколение воины и ратники, солдаты, солдаты… Нам ли привыкать. Твоего предка, Маша, еще Иван Грозный казнил, а ничего, род наш не повывелся. И сейчас он не повыведется… Пока Россия жива! – закончил он решительно и обернулся к чекисту. – Ну, бери меня, матрос, вези меня на плаху, я готов.
- Да будет вам… - вдруг махнул рукой комиссар, нужны вы нам…
Он хотел сказать что-то еще, что-то очень важное, но не мог найти слов. Глаза его разбухли и слезы, да – слезы душили его. Чтобы не расплакаться как девице, он больно закусил нижнюю губу и намеренно грубо оттолкнул мягкий стул на гнутых ножках. Стул упал.
- Вот что, граждане, - наконец закончил он. – Мы к вам претензий никаких не имеем. Живите и помните, что советская власть – она справедливая. Эх, кавалер! – Вдруг ухмыльнулся он, - ну, чистый кавалер, - и махнул рукой на старика в роскошном мундире. – Ладно, покедова, граждане.
Он повернулся и вышел решительно в прихожую, крикнув на ходу конвою: - За мной, товарищи!
Маша выбежала за уходившими чекистами на порог и когда матрос залезал в кабину грузовика, он оглянулся на нее, усмехнулся еще раз и крикнул весело:
- А что, Маруся, мы скоро на Деникина отбываем, может с нами, сестрой милосердия, а? – И не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, захлопнул дверцу и грузовичок затарахтел по Знаменке к центру большого тревожного города.
Старый генерал прожил еще до 1921 года и после смерти был похоронен на кладбище Симонова монастыря. Могила его затерялась.
Дочь его Мария вышла вскоре замуж за молодого совслужащего Кокорева, занимавшегося торговой деятельностью и переехала после смерти своих родителей к мужу в другую часть Москвы, в район Елохова. Она прожила большую, трудную жизнь, родила и вырастила двоих дочерей. Во время войны умер ее муж, дети с малолетства пошли работать. Жизнь ее была тяжела, но не более тяжела, чем жизнь других ее современников, чем вся жизнь нашей матушки России.
© Copyright: Станислав Сергеевич Зотов, 2011
http://www.proza.ru/2011/06/01/170